«Мой патронус — хорёк»: интервью с «Мальчиком, который выжил» после ЧАТа

На фестивале Честного актёрского творчества один из моноспектаклей был представлен публике в формате стендапа. Сквозь слёзы публика смеялась смерти в лицо вместе с Иваном Извековым, актёром из Самары.
О том, как прошёл спектакль, где герой вынужден вновь научиться жить после потери матери, которую забрал рак, мы рассказали в репортаже. А подробнее о роли, эмоциональном равновесии и спасительном "я в домике" поговорили с исполнителем главной роли — Иваном Извековым.
— Иван, почему вам спокойно не сиделось дома в Самаре? Ради чего приехали на фестиваль моноспектаклей в Омск?
— Для меня это путешествие — своего рода авантюра, так как у меня никогда не было опыта личного участия в фестивалях. Я недавно пришёл в театр-студию "Вместе", актёрство не основной мой род деятельности, это занятие для души. Не буду скрывать, что хотелось познакомиться с другим городом и с творчеством коллег со всей страны. Совмещаем приятное с полезным. Конечно, интересно было услышать комментарии экспертов о нашем спектакле, и чтобы зритель поделился с нами эмоциями. Хотелось создать в зале такую атмосферу, в которой люди смогли бы спокойно смеяться и плакать, если им этого захочется. Постановка вообще может вызвать отвращение, и это тоже будет круто, это тоже эмоция!
— Теперь я просто не могу не спросить — чем же вы тогда занимаетесь?
— Я преподаватель, наставник театральной детской студии, ставлю спектакли с ребятами. В студенческие годы вышел на практику и очень полюбил педагогику. Конечно, в юношестве ты хочешь, чтобы по тебе плакали все театры, но потом, когда я начал работать с детьми, понял, что дальше хочу развиваться именно в этом направлении.

— Теперь к вашему моноспектаклю. Каково быть "Мальчиком, который выжил"?
— Тяжело. Когда я познакомился с произведением, я был в шоке. Я могу точно сказать, что данный спектакль укрепил мои отношения с близкими людьми. Это одна из основных целей произведения — менять восприятие ценности тех, кто нам близок. Имея возможность сказать: "Я тебя люблю, мама" и "Я тебя люблю, папа", мы часто ей не пользуемся. После моего ввода в эту постановку не проходит и дня, чтобы я не сказал маме о том, как сильно я ей дорожу. Она, кстати, была на премьере спектакля и в один момент не смогла удержаться и крикнула мне из зала: "Я тоже тебя люблю"! У меня даже сейчас пошли мурашки по всему телу, я сейчас расплачусь, давайте к следующему вопросу (улыбается).
— Иван, этот спектакль для вас в первую очередь о жизни или о смерти?
— О жизни, о сложности принятия смерти. Есть события в этом мире, после которых мы теряем эмоциональное равновесие. Наш спектакль — это своего рода ликбез о том, что тебе предстоит пережить после того, как ты узнал скорбную весть. Главный герой Анатолий Петров как раз и рассказывает, что нужно сделать для того, чтобы жить дальше. Первоначально пьеса называлась "Жизнь после смерти". Как бы мы не пытались оградить себя от каких-то таких тяжёлых моментов, они всё равно нагрянут.

— Когда вы разбирали роль мальчика, которому было необходимо принять смерть матери, мысленно давали своему герою советы по выживанию?
— Смерть для живых зачастую вызывает одно состояние — ступор. Наверное, не просто так говорят: человеку нужен человек. Если я в жизни действительно окажусь в такой ситуации, то мне кажется, что спасти меня смогут только близкие люди. И я буду просить у них помощи. Если ты сам захочешь двигаться дальше, а не погружаться в эту бездонную яму, которая будет тебя медленно и болезненно засасывать, ты сможешь пережить всё. Как вариант: почему бы на трудном жизненном этапе не заняться рукоделием или не сменить кардинально свой вид деятельности?
— А как в Самаре воспринимают постановку?
— Мы практикуем обсуждение спектакля после его показа. И знаете, кто-то высказывается о том, что такое нельзя показывать; кто-то говорит о том, что для него этот спектакль стал терапевтическим часом; а кто-то отмечает, что очень важно делится своими историями утрат. Моменты, когда нам их доверяют, добавляют театру силы. Они доказывают, что театр не просто предлагает публике шоу, нет, театр способен излечить и помочь.

— Иван, а вы сами как себя чувствуете после часового разговора о самой страшной теме?
— На премьере, когда ещё мама умудрилась подлянку устроить (улыбается), я сидел за кулисами и не мог успокоиться. Я не мог остановить слезы. Накатывает после каждого показа. А спустя несколько часов чувствую внутри себя азарт: блин, хочу ещё.
— "Гарри Поттер" — лекарство от всего? Почему мы в любой непонятной ситуации тянемся к этой истории и с этой книгой в руках легко можем сказать инфантильное: "Я в домике"?
— Это даже не домик, а замок (улыбается), где живёт наша фантазия и вера в добро. Это мир волшебства, иначе не сказать. Тебе как ребёнку хочется верить в эту сказку, тебе хочется её примерить на себя. С помощью фанатской атрибутики у нас получается волей-неволей стать частью мира нашей мечты. Я дикий фанат "Гарри Поттера", у меня дома целый алтарь. Так что спектакль "Мальчик, который выжил" был послан мне судьбой. Для меня, например, ещё очень ценны моменты, когда я вижу, что мои ученики во время перемены сидят не в телефонах, а читают "Гарри Поттера". Я сижу и думаю: да, мои дети. В любом возрасте поразмышлять, а какой же у меня был бы патронус, а на каком факультете я бы учился, — это возможность найти гармонию со своим внутренним ребёнком. Повзрослеть мы все успеем, а чтобы остаться в душе ребёнком, нужно ещё постараться!
— Тогда остаёмся детьми и не перестаём мечтать. Как бы выглядел ваш патронус?
— Мне кажется, я очень похож на хорька (смеётся). Да, мой патронус — хорёк!
Фото: Елизавета Медведева
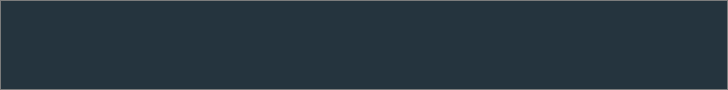


Комментарии закрыты.