Писатель Серафима Орлова: «Готов сценарий для экранизации моей повести»

Автор повести "Голова-жестянка", вошедшей в шорт-листы престижных книжных премий, в большом интервью рассказала о своём сотрудничестве с театром, имперских амбициях Омска и своём знаменитом дедушке — актёре Петре Вельяминове.
Серафима Орлова
• Писатель, драматург
— Многие люди, имеющие отношение к филологии, а мы оба окончили этот факультет ОмГУ, в юношестве мечтают профессионально заниматься литературой. Написать книгу, книги… Как долго вы к этому шли? Как созревали? Когда увлечение и мечта стали реальностью.
— Возможно, многие люди, заканчивающие филфак, к концу обучения мечтают не о том, чтобы книгу написать, а желательно больше ни одной не читать. Потому что все книги, которые в жизни нужны, уже прочитаны. Говорят, что если прочитать всё из списков литературы в вузе, то можно немножко двинуться головой. Ну это, конечно, неправда.
— Я в те годы читал почти всё из этих списков, а сейчас страдаю от недостатка художественной литературы в моей жизни.
— Я тоже читала многое, но не всё. Были пробелы. Кстати, есть знакомые с филфака, которые говорили, что не любят книги. Видимо, их всё-таки перегрузили ими за время учёбы. У нас было несколько людей на курсе, которые хотели писать и занимались этим с переменным успехом. Из нашей группы из четырёх человек по-прежнему продолжают писать двое — я и Игорь Федоровский. Я начала писать лет с десяти-одиннадцати. Так получилось, что я на долгое время попала в больницу. Когда все книги были прочитаны по несколько раз, там абсолютно нечего было делать. И пришлось свою писать. Меня учительница к этому подтолкнула, когда дала сочинение на свободную тему. А мне одиннадцать лет, и я впервые вижу такое задание. И я стала писать сказочную фантастику, потому что не знала, как вообще подойти к этому. И учительница стала ждать продолжения. Изначально получился фрагмент о том, как некий антропоморфный заяц нашёл клад и на деньги от него построил космическую ракету. Учительница спросила, состоится ли полёт. Он состоялся. А дальше была запутанная история, в ходе которой персонаж становился королём, потому что он прилетел на планету, на которой не было зайцев. Я тогда коротала время за написанием таких вот историй. Ещё я мечтала писать комиксы. Рисовала и думала, что пойду на худграф, но всё-таки выбрала филфак. Буквы — это всё-таки более универсальный инструмент. Слова всегда при нас. Писателю для работы почти ничего не нужно, в отличие от художника. Театральный режиссёр не обойдётся без людей. Кино так вообще целая индустрия. А писателю почти ничего не нужно, кроме его головы и носителя, на который можно текст фиксировать. И филфак сформировал мои представления о том, чего бы мне хотелось в литературе. У нас была очень хорошая кафедра зарубежной литературы. И большое спасибо преподавателям, которые нас учили, потому что они открыли очень многие вещи и фактически перевернули картину мира. В школе всё совсем с другого бока показывалось. Да и зарубежки там почти нет. Для меня распахнулся целый мир. Были образцы, которым хотелось соответствовать, быть как они, лучше, чем они. И мне всегда нравился магический реализм. "Игру в классики" Кортасара я прочитала в пятнадцать лет. И этот текст на несколько лет стал для меня самым важным. Все пять лет на филфаке я целенаправленно писала по нему диплом. И в творчестве мне было интересно: можно ли потянуться к модерну через уже наступившую эпоху постмодерна. Потому что в модерне были какие-то симпатичные вещи, которых в данный момент не хватало. При этом серьёзно к ним подходить тоже было довольно сложно. Потому что произошло какое-то нарушение наивности. Потом появились разговоры о том, что существует метамодерн. И собственно это направление мне интересно, симпатично. Я считаю, что подростковая проза, особенно отечественная, нередко укладывается в эту категорию. Потому что сознание подростка иногда заключается в самом взрослом. Когда человек балансирует между иронией и искренностью. Это мерцание — главный признак метамодерна. То есть, мы знаем, что автор мёртв, но автор жив. Мы знаем, что всё кругом повторяется и сплошная цитатность, но тем не менее мы пытаемся создать что-то новое. То есть наше новое — это сама попытка, само стремление. И для подростковой литературы это очень подходит. Для неё нужна ирония и надежда на искренность. Иначе это не работает. Взрослые могут более пессимистичные сюжеты воспринимать. А подростку нужна какая-то линия, путь, потому что он находится в состоянии инициации, перехода. Его должно что-то вести, чтобы выходить на новый уровень. И книги желательно чтобы психологически этому соответствовали. Поэтому так, наверное, это и работало.

— Когда ваши литературные опыты из проб, попыток понять — графомания это или нет, привели к тому, что вы поняли — это всё серьёзно? Вы же после учёбы в ТЮЗе работали. Ушли, чтобы заниматься литературой?
— Я недолго работала в театре. Это с разными вещами было связано. Я, наверное, неуживчивый в коллективах человек. Мне довольно трудно много времени проводить с людьми. Поэтому мне было сложно взаимодействовать с коллективом. Но благодаря тому, что я работала в театре, стала читать много пьес. После неожиданной смены руководства замещала завлита и потом осталась на этой должности при новом директоре. Хотя чтение было для работы достаточно бесполезным, потому что в современном театре завлит по большей части ничего не решает, никакой выбор пьес не осуществляет, это делает режиссёр, вообще кто угодно, кроме завлита. А он в лучшем случае может заниматься редакторской работой, править пьесу по желанию режиссёра, чтобы её к постановке приготовить. Тем не менее на почту всё равно валятся письма авторов со всей России, которые какими-то неведомыми путями добывают адреса театров и присылают веерной рассылкой. В тоже время надо смотреть конкурсы и хочется что-то предложить. Поэтому я стала читать много пьес. И в конце концов подумала, что стоит написать свою. Причём мне давно говорили, что надо это сделать, ведь у меня театральная семья, вроде как логично. И я написала пьесу о студенчестве, кстати, очень похожую на прозу по языку и сюжетным запуткам. В 2013 году попала с ней на конкурс к 100-летию драматурга Виктора Розова, который проводился Российским академическим молодёжным театром. И мне удалось оказаться в числе пяти победителей. Вызвали в Москву, там показали читку, дали денежный приз. Я вернулась домой и подумала: надо проверить — случайность это или нет. Кстати, как в рассказе, который я сегодня читала, вот примерно так. То есть — я тварь дрожащая или право имею? Надо ещё несколько раз попробовать. Если удастся ещё, значит, это моё. В 2014 году я написала сразу три пьесы, одна попала на старейший драматургический фестиваль "Любимовка" и была отмечена отборщиками. Потом ещё были конкурсы, и я поняла, вроде как катит. И стала дальше пытаться пробиться. Выйти через конкурсы на театры — это достаточно сложный путь.
— А в родном театре предлагали к постановке этот материал?
— В своём отечестве нет пророков. Вот если тебя поставят в Москве или Петербурге, тогда уже, может быть, поставят и в Омске. Вот, например, замечательный Алексей Житковский. Он омич, но сейчас живёт в Нижневартовске. Пока его пьесу не заметили в столицах, кто о нём знал? А сейчас его "Горку" ставят по всей стране (читайте интервью с Алексеем Житковским). Но со стороны провинциальных театров это объяснимо. Для них ставить неизвестного автора — это риск. А в Москве и Петербурге — большая конкуренция. Там театрам постоянно нужен новый контент. Они хватают много всего, могут пробовать. У них больше прибыль. Есть экспериментальные театры — храбрые, которые лезут на рожон, их постоянно закрывают, выгоняют из помещений, как "Театр.doc", потому что якобы что-то не так с арендой, так как они постоянно какие-то политические вещи ставят. Там можно себе это позволить. А у нас чаще всего театр боится экспериментов, настроен на такого зрителя, некоторый пять раз придёт на классический спектакль, потом ещё приведёт своих знакомых. Такому зрителю надо, чтоб было, как было, и он будет нести деньги в кассу.
— Но у нас же не только такой зритель. Есть экспериментальные театры и постановки.
— Не только, но это всё стало более-менее появляться только в последние годы. И сначала всё это было немного для галочки. Дескать, у нас есть основное, но мы ещё немного заступим на эту территорию, потому что прогрессивные, а потом быстренько вернёмся обратно на безопасную. Потому что заработать на этом очень сложно. У нас до сих пор пренебрежительное отношение к документальному театру, например. Даже у любительских трупп, которые не рискуют своей кассой. Типа — это не искусство. Смешно, конечно, слышать такие вещи. Но они существуют до сих пор. Благодаря тому, что в Омске появился Центр современной драматургии немножко ситуация стала "размачиваться" в городе, стали лучше это принимать. Плюс "Пятый театр" довольно часто обращался к современной драматургии. Но это было не сплошь, а регулярные вылазки на чуждую территорию.

— Как мне кажется, это прекрасный способ отстроиться от так называемых классиков.
— Тем, кто массированно заступает на эту территорию, им трудно. Потому что зритель, который ищет новое и актуальное, он не из тех, кто приходит на одну и ту же постановку пять раз. Это зритель, который постоянно жаждет новых впечатлений и раздражителей. А театру надо кассу делать постоянно. Пять процентов населения ходит в театр. Очень большая конкуренция за зрителя. И на внятном финансировании в Омске только Драмтеатр, а все остальные выживают как могут. Поэтому театры можно понять. Но можно понять и драматургов. Очень много проблем, связанных с выплатами авторских, воровством пьес, когда меняют имена персонажей, названия и ставят, обманами, дикими переделками. Я, конечно, на стороне драматургов больше, хотя знаю и другую сторону изнутри. Считаю, что если театр не будет говорить о современности со зрителем, то на длинной дистанции ему очень сложно выжить.
— Как дальше развивалась ваша литературная карьера?
— Начали появляться заказы, но это происходит в последние два года. Я молодой драматург, так как постановки на профессиональной основе только начались. Мы создали вместе с "Пятым театром", режиссёром Денисом Шибаевым и художественным руководителем Никитой Гриншпуном пьесу "Про город", которая превратилась в спектакль об Омске. И этот опыт был первым крупным. Потом ещё была похожая пьеса, специально сочинённая для Самары. Она пока ещё не вышла. Премьера была срезана наступившей самоизоляцией. Три дня оставалось до показа, и тут всё закрыли. Я надеюсь, что она ещё состоится. А спектакль "Про город" претерпел множество трансформаций, переделок. Были моменты, когда вся труппа театра участвовала в мозговом штурме, чтобы попытаться придумать или перепридумать сцену. В итоге это плод коллективного разума, но в нём всё равно много моего. В ряде моментов я сопротивлялась и не хотела. Мне хотелось более серьёзного и сюрреалистического, да и в эту сторону тянул режиссёр-концептуалист. Художественный руководитель хотел более ироничного, гротескного. И мы как лебедь, рак и щука между собой пытались это решить. И в итоге получилось то, что включает черты желаний всех. А в Самаре сердитая острая пьеса про зомби-апокалипсис. И она основана на городских легендах. Я приехала в Самару из Омска, Маша Конторович из Екатеринбурга, и Серёжа Давыдов — он самарский. И мы целую неделю ходили по городу, разговаривали с людьми и собирали материал для пьесы. Получились три разные пьесы: лирическая у Маши про людей давно расставшихся, фантастическая у Серёжи про взрыв на заводе, и у меня — про мертвецов, так как я именно об этом услышала много историй.
— Возвращаясь к спектаклю "Про город". Как вам результат с учётом того, что пришлось убирать авторское я? И критика была неоднозначная.
— Мой любимый рецензент Оксана Дубонос так разнесла этот спектакль, с таким шиком и вкусом, что мне понравилось. Я ощутила удовольствие, смешанное со стыдом. У меня самой отношение к спектаклю неоднозначное. Но спустя время я с ним ужилась. Там есть черта, которая у меня везде. Мои истории смешные и страшные одновременно. Сначала смешно, а потом плохо. Это какой-то разрез психики автора проявляется. Я не то, чтобы пессимист, но у меня такой взгляд на жизнь. Смешно, смешно, смешно, потом раз — и все умерли. Конец один и тот же всё равно. Здесь это тоже сохранилось. Там есть сцены, над которыми вроде надо бы смеяться, но на самом деле совсем не смешно. Как сцена на станции Достоевская, когда женщина в образе учительницы на полном серьёзе рассказывает, что омская каторга ждёт своих птенцов, мы воспитываем гениев. Я серьёзно отношусь к теме репрессий, мне тяжело об этом юморить. Но есть люди, которые на этом и подобных моментах смеются. Видимо, более толстокожие, и их на злой смех пробирает. Есть те, кому неприятно слушать, так как для них это неприкрытый цинизм. Мама мне сказала, что на спектакле ей было весело, а дома стало грустно и обидно. За то, что мы правда в этом живём, что правда многие так думают, что с этим ничего не делается. И это брошено в лицо причём ещё и с усмешкой. Хотя там вроде бы такой утопический финал. Но он лишь частично, может быть, спасает ситуацию. По крайней мере, спектакль всех раздражает. Это неплохо для театра.

— А был у вас какой-то страх уходить с постоянной работы и заниматься только литературным творчеством?
— Из-за моей интровертности и социофобии больше был выбор — или я попробую работать чисто по своим интересам литературным, или вряд ли останусь в кондиции психической. Не до клиники, конечно, но были моменты очень депрессивные. Я поняла, что надо попробовать что-то другое. Ну, кстати, после ТЮЗа у меня были и другие работы, например, в молодёжном пространстве "Дача Онегина", ещё с проектом "Логистика молодёжных инициатив". Но это всё было мне ближе, и с коллективами мне было легче коммуницировать, плюс происходило это реже. Мы собирались на совещания, а работали в основном из дома. Мне, с одной стороны, было интересно, а с другой — это отъедало много времени. Например, я вела проект "Вишнёвый шкаф" с читками, когда их в городе было мало. И тут я поняла, что надо выбирать: я — общественник или писатель. И опять выбрала. Сказала, что мне надо дописывать книгу и хочу уйти с работы на время. Семья согласилась. Ещё мне тогда удалось наскрести денег и на два месяца съездить в Москву на курсы продюсирования в кино. И эти вложения до сих пор себя отрабатывают. Всё, что потом потянулось, произошло благодаря тому, что я это сделала. Если бы отодвигала книгу на десятый план и не занялась обучением, не появилось бы возможности жить литературным трудом. Сейчас, если очень сильно прижмёт, возможно, я опять буду что-то искать и из какой-то дерзости вникать в новое дело, изучать людей, которые с этим связаны, потому что писателю впечатления всё-таки нужны. Но не рассматриваю это как что-то постоянное.
— Когда мы чуть раньше разговаривали, вы обмолвились, что рассматриваете переезд в Санкт-Петербург. По каким причинам можете переехать из Омска?
— Рассуждения об этом связаны с театральной жизнью. Интересны проекты режиссёрские, постдраматические, перформативные. Хочется повысить свой уровень образованности. Полезно, когда вокруг много театров, которые постоянно и много показывают что-то новое, и ещё приезжают зарубежные. Если будет решена проблема стоимости билетов из Омска и в Омск, это стало бы огромным плюсом за то, чтобы отсюда не уезжать. Для меня вопрос лишь в доступе к культурным ценностям, а не в том, где находиться. Ну и хорошо бы ещё с экологией дело поправить. А творчеством здесь заниматься удобно: спокойно и конкуренции меньше, беготни по головам, попытки друг друга задавить. Есть свободное пространство. Тут свою ценность больше ощущаешь. Кстати, если говорить о подростковой литературе, к которой я себя отношу, то немало авторов, которые живут не в Центральной России. И они действительно интересны тем, что приносят в литературу своё — особые голоса. Это слышно, и именно за это ценят. Не похоже на московские и питерские тексты. Главное — найти своего издателя и читателей. Тем более, что книжная индустрия не самая богатая. Так что в провинции легче прожить литературным трудом.
— А вы как нашли своего издателя для повести "Голова-жестянка"?
— Издательства обычно штудируют премиальные списки. Если книга отмечена, то на неё обратят внимание и, по крайней мере, попросят почитать рукопись. А в моём случае ещё и были рекомендации. Так как я уже находилась достаточно продолжительное время в литературном мире, я туда ещё через пьесы вошла. А так как часто пишу пьесы подростковые, молодёжные, а это связано с детской литературой, то знакомилась и с этой средой тоже. Моя рукопись очень многим коллегам понравилась. И меня в издательство рекомендовали три разных автора. Причём я только одного попросила об этом, остальные сделали это по личной инициативе, не предупредив меня. Плюс работа получила премию. Её взяли читать и сказали: да это наш материал, давайте издавать. И уже потом было ещё два шорт-листа и премия Крапивина.
— Из всех ваших наград лично меня бы всего больше зацепила именно последняя, так как Крапивиным я зачитывался в детстве.
— Хорошо, что Владислав Петрович сейчас в добром здравии. Я его видела лично, как раз у него юбилей в том году был.

— Наши вкусы совпадают? Вы тоже любите его книги?
— Вполне. Он один из важных подростковых авторов, который меня формировал в 11-13 лет. Период, когда такой писатель был очень нужен. Про это редко говорят, но для меня Крапивин удивителен тем, что обычно вспоминают его мальчиков, подростковый романтизм, отрицание зла, борьбу с миром взрослых — испорченных и чёрствых. Но почему-то не говорят, что Крапивин, на мой взгляд, удивительно честен, когда он говорит о смерти с ребёнком. В его книгах это достаточно часто попадается. Мне впервые его книга очень жёсткая попалась. В журнале "Если" выходила небольшая повесть — "Трава для астероидов". Другое её название "Полосатый жираф Алик". Но оно, по-моему, такое маскировочно детское. А первый вариант больше отражает суть. Вся фабула в том, что дети, которые погибли из-за жестокости взрослых в военных конфликтах и даже суицида, терактов, это период 90-х, скорее всего, живут в каком-то лимбе. То есть у каждого есть свой астероид, как у маленького принца, они их обустраивают, как хотят. Но они ещё хотят оттуда постепенно вырваться и вернуться к своей жизни и попробовать всё-таки её прожить до конца. Им даётся этот шанс. Они попадают на ту самую Дорогу, которая у Крапивина есть в целом цикле "В глубине великого кристалла". Дорога, по которой можно прийти куда угодно, даже если твоя земная жизнь уже закончена, тебе даётся шанс. И они идут и с ними происходит то, что позволяет им вернуться. Но эта книга при всей сказочности и том, что им удаётся, очень жёсткая. Там абсолютно честно рассказано про всё, что может произойти с человеком. Как мир может его ударить и размесить на части. Никакого смущения, никаких обиняков, никакой попытки сгладить, спасти от этого впечатления. Когда прочитала, то подумала — вот так можно! Взрослый считает, что он может со мной так говорить, как с другим взрослым, хотя обращается к ребёнку, подростку. Меня эта честность потрясла. И я потом, когда читала следующие книги Крапивина, всегда находила эту ниточку честности о том, что жизнь такая удивительно хрупкая штука. И в смерти нет ничего романтического, героического. Даже если там есть герои, которые погибают, то показано, что смерть — настоящая, гадкая, у неё страшное лицо. И это было по-настоящему честно. Для меня это было очень важное впечатление. Поэтому я очень любила этого автора и до сих пор его уважаю.
— Получается, в первую очередь надо обязать подростков читать Крапивина, а не Роскомнадзору бороться с описанием способов суицидов…
— Удивительно, но подросткам сейчас достаточно сложно включиться в Крапивина. Интересные помехи, связанные не с тематикой, а что ли со способом рассказывания. Вся основная расстановка сил, романтизм, нежность, хрупкость образов, язык почему-то как будто не в струю. Это про нас — детей 80-х, 90-х и начала нулевых. Причём не из Москвы и Петербурга, а из провинции. Крапивин же сам из Тюмени, у него есть этот флёр, например, в "Тополиной рубашке", которая про его детство сибирское. И сейчас это как будто не на витке. Это временно чужое. Потом оно может опять стать своим. Сейчас у детей очень много других впечатлений. И, по-моему, они ищут немного другие вещи. Эта тема по-прежнему может их привлечь. Вещи очень популярные в их среде — осмысление грани между жизнью и смертью. Но у Крапивина есть ещё очень много другого, что может помешать. Хотя любители Крапивина по-прежнему существуют. Но теперь это более закрытая группа.
— Вы рассказывали, что изначально садились писать пьесу, а "Голова-жестянка" получилась повестью. Как так вышло?
— Да, изначально планировалась пьеса. Но она получалась какая-то странная. Мне казалось, что я разучилась разговаривать, когда смотрела на текст. Получался какой-то бред. Поэтому я попыталась попробовать в форме монолога, потом поняла, что это проза, а не драматургия. Другой уровень. Уровень конфликта героя с его внутренним миром. И после этого пьеса превратилась в прозаический текст, хотя до этого я не прикасалась к прозе несколько лет.
— Оценивая повесть, вы говорите, что она получилась кинематографичной. И вот недавно появилась новость об её экранизации. Такая задумка изначально была в голове или случайно вышло?
— С одной стороны, случайно. С другой — часть книги я писала в Москве, когда училась на кинематографических курсах. И я смотрела много кино. И слушала лекции своего учителя — Ивана Капитонова. А потом через время к нему и попал этот текст. Причём я не бегала за ним с воплями: почитайте его. Он время от времени интересовался, что у меня нового. И кинокомпании оказалось интересно с этим материалом поработать.
— На какой стадии проект?
— Готов сценарий. Сейчас ищется финансирование на съёмки. Все настроены серьёзно, поэтому я надеюсь, что фильм будет снят. Сценарий основной линии очень похож на книгу. Там ничего не изменено. Некоторые моменты даже углублены. А некоторые второстепенные линии, связанные с второстепенными персонажами, наоборот, ушли в тень или отпали. Потому что кино — это немного другая структурность. Я говорила, что книжка производит киношное впечатление. Но это такое кино, снятое изнутри персонажа. А для киносценария пришлось по-другому отделять главное от неглавного, чтобы законы кино работали. Я рассчитываю, что получится фильм равный книге, так как я тоже принимаю участие в его создании как сценарист, и вижу, что люди ко мне расположены и развёрнуты всей душой. Им интересно понять души, которые есть в тексте. Поэтому я в них не сомневаюсь.

— Возвращаясь к теме родного города. Как вы относитесь к нытью о том, что у нас всё плохо, мему "Не пытайтесь покинуть Омск"?
— Люди имеют право ныть и раздражаться. Чем больше они ноют и раздражаются публично, тем больше появляется повестки, с которой надо что-то решать. Известно, кому решать. Но пока никто не возмущается, никто и чесаться не будет. Ведь если работает — зачем чинить? С другой стороны, всё хорошо без пережимов. Как и бесконечный пессимизм перестаёт работать, теряет свою энергию в определённый момент, так и истерический оптимизм — у нас же намного лучше, посмотрите, как живут наши соседи, — тоже не работает. К сожалению, эти стратегии нарочитого пессимизма и истерического оптимизма постоянно друг с другом борются, и обе выглядят фальшиво. Хочется трезвого подхода, потому что Омск не остров. Мы же в России живём. То, что происходит у нас, является отражением ситуации. Если мы чем-то недовольны, это не значит, что мы такие особенные и обиженные. Надо шире смотреть. К этому привели процессы, которые в принципе происходят в стране.
— Мне кажется, это ещё тоска по недавнему прошлому, когда Омск был промышленным центром страны и жил лучше соседей, а потом распался СССР. А амбиции остались.
— В этой ситуации есть свои достоинства. Когда люди много хотят, а мало получают, в них возрастает осознанность и активная гражданская позиция. Что позволяет немного менять ситуацию в другом направлении. Не когда есть большой папа — государство, который накормит, по голове погладит, сделает так, чтобы всё было хорошо, и мы все как в большом детском садике. Это, кстати, интересная мечта, наверное, архетипическая.
Есть такая визуальная игра — новелла "Бесконечное лето" с эротическими элементами. Изначально делалась как эротический продукт, но разрослась гораздо сильнее и стала для меня примером, который во-многом определяет вот эту мечту об исчезнувшем утопическом государстве. Там главный герой — 30-летний программист — внезапно садится в лиазик и попадает в условные 80-е годы, в условный пионерский лагерь, где он подросток, непонятно откуда взявшийся, и вокруг него много прекрасных девушек. Он пытается распутать эту ситуацию и вернуться домой. Хотя его всё больше затягивает эта непонятная жизнь, выхваченная из пространства. Для меня это ощущение и есть тоска по идеальному устройству мира, которого в полной мере никогда не существовало, но о котором так здорово и хорошо рассказывали. Плюс это детские или юношеские воспоминания, что это превратилось в утопию, тоску по разрушенной утопии.
В Омске это тоже есть. Есть эти имперские амбиции. Кто-то цепляется за Третью белую столицу, кто-то за город-сад, ещё за что-то — за какие-то периоды успеха, через которые себя пытается определить сам человек. Я сам чего-то стою, потому что ассоциирую себя с этим, принадлежу этому месту, у меня такая психология. Она выросла, потому что я такой-то. У меня такие взгляды — политические, социальные. И это обусловлено местом, где я живу. Я для него хочу такого-то, а получается совсем другое.
На самом деле это очень полезная ситуация, потому что в ситуации оставленности процветает другое. Искусство, общественная деятельность, процветает всё, что снизу. Если этому не будут мешать, есть большие шансы на трансформацию. Мне хочется, чтобы люди на этой земле, в Сибири, больше чувствовали себя хозяевами. В ситуации, когда все бизнес-расчёты делаются максимум на два года, все живут сегодняшним днём — побыстрее схватить кусок и побежать, совершенно нет преемственности, очень плохо с традициями, традициями не в плане сохранения какой-то мёртвой культуры, а именно в ощущении, что если никто не чувствует ценности в моей жизни и в том, как я живу, то я буду стараться ценить себя сам, стараться создавать свой кусок мира, в котором я буду свою ценность ощущать. К этой психологии реально прийти, она вырастает из этого недовольства. Может быть, нужно ещё 10-15 лет, когда подрастут молодые люди. И среди них довольно много идеалистически настроенных людей. Оставили нас, и хорошо, что оставили. Можно считать, что нас оставили в покое. Теперь мы наконец можем заняться собой. В ситуации выжженной земли можно идти куда угодно, начинать что угодно. Это будет трудно, потому что куда не вкладывают — там всегда плохо растёт. Но люди есть всегда. Всегда есть человеческий ресурс. Это, кстати, правило театра — выживающего в любой ситуации искусства. Ведь даже после апокалипсиса, когда все будут сидеть в окопах, всё равно останется человек, который будет хотеть рассказывать что-то другому и представлять это в лицах. Поэтому театр будет продолжать сохраняться.
— Почему вы занимаетесь именно подростковой литературой?
— Может, я сама себя чувствую человеком ближе к подросткам, чем к взрослым. Видимо, к игрекам-миллениалам. Хотя и не ярко выраженным. Да и мои сверстники многие ещё живут в ситуации, когда они могут выбирать — кем быть. И всю жизнь можно выбирать. Это как с работой. Такой взгляд на мир, что не страшно без постоянной работы, не страшно её менять, потому что не через неё человек себя определяет. Это тоже черта поколения. Мне интересно разговаривать с подростками, потому что они будут владеть будущим. Мне интересно такое удалённое послание отправлять. Поэтому мне хочется с ними разговаривать через книжки и пьесы. Хотя на самом деле у меня и взрослые вещи есть наподобие "Про Город" и самарской штуки. Но они довольно универсальные. Я видела на своих спектаклях и подростков тоже. Будущее мне очень интересно, одновременно оно пугает. Но я его приветствую. Мне интересна ситуация постоянной трансформации, которая происходит с подростковой психикой, она живая. И когда с подобными текстами работаешь, в тебе самом больше жизни, чем в других ситуациях.

— Вы отслеживаете статистику продажи вашей книги?
— Не особо. Стартовый тираж, по-моему, три тысячи был, потом ещё допечатки бывают. Сейчас не очень этим интересуюсь, потому что у меня фиксированный гонорар. Мне больше интересно, какие трансформации книжка примет и куда её ещё можно поместить: хочет ли кто-то издать аудиоверсию, уже вот готов киносценарий, может быть, на сцене поставить. Мне просто хочется, чтобы она жила в разных формах. Конечно, сейчас скромные тиражи и гонорары, сокращается сеть книжных магазинов. В принципе литература сейчас — это нишевая штука. Ниша людей, которые себя через неё определяют. Очень много стало писателей и тех, кто пробует писать. Благодаря интернету мы все узнали об этих людях и миллионах произведений на сайтах типа "Стихи.ру". Наверное, можно сказать, что это очень большая субкультура. Нужны универсальные книги, которые говорят со всеми. Но всегда нужны и книги, которые говорят с небольшим количеством людей. Иначе — кто с ними вообще поговорит тогда? Им может ничего больше не подходит кроме вот этого конкретного ряда книг. Если даже это небольшое количество человек, почему они должны быть оставлены? Почему их интересы не должны удовлетворяться? Есть Чехов, а есть пьесы, теряющие актуальность через год после постановки. Но в определённый момент эта актуальность нужна людям, пусть они один раз сходят на спектакль. Слово, важное для них, должно быть сказано. Некоторые сокрушаются, что раньше были большие тиражи, писателей уважали, а сейчас это субкультура. За это уважение приходилось платить большую цену, если про советскую ситуацию говорить. Тут как с Омском. Если нас оставили, значит, нас оставили в покое. Мы можем делать то, что хотим. В этом есть свобода.
— Меня зацепило ваше высказывание про театр, что вы увидели его изнанку, и настолько вам это не понравилось, что актрисою точно не будете. Что именно вас отвернуло?
— Это был театр 90-х. Выживай, как хочешь. Культурная сфера тогда была очень обижена в плане зарплат. И тогда было очень сложно прокормиться. Поэтому многие люди уходили из профессии. Эта работа отнимает очень много сил и времени, требует тотального включения. Если за счёт неё нельзя хоть как-то жить — нужно уходить, спасаться просто. Когда я увидела эту ситуацию в детстве, то подумала, раз это так сложно, то не стоит в эту сторону смотреть. Другой аспект в том, что над актёром властвуют, он материал. А интересно было самой создавать материал и самой управлять материалом, нежели быть им для кого-то. Режиссура — это высказываться через других людей, а писатель — очень самостоятельное существо.
— Насколько я понял, из омских людей искусства вы выделяете художников, того же Вирже, как тех, кто находится на острие современности.
— Литераторы у нас тоже интересные появились в последние несколько лет. Зазвучали достаточно любопытно. Но, конечно, если на улице остановить человека и спросить, каких омских писателей и поэтов он знает, услышишь тык-пык.
— Тимофея Белозёрова…
— Алиллуйя, если так. Значит, не зря школьные учителя работали и библиотекари — наши замечательные подвижники. Что касается художников, той же "Левой ноги", они выгодно отличаются тем, что ярко присутствуют в городском пространстве. Я вижу, что их хорошо знают и в других городах. В этой ситуации провинциальной выигрывает тот, кто смеет говорить. Тут даже может быть второстепенно желание выйти во что-то новое. Но есть стремление постоянно пробиваться к открытию и постоянно осмыслять сегодняшний день. Потому что про актуальную повестку мало кто может говорить. Обычно с обиняками это получается. А художникам не жалко. И они поэтому и выигрывают, что на провинциальном поле на это редко кто решается.

— У меня прямо сейчас всплыла картинка в голове, как Вирже стоит на улице, по-моему, с гипсовой маской. Это настолько в точку и на злобу дня. Кстати, если писатель захочет какое-то явление осмыслить, пока он будет это делать, тема может уже уйти на второй или даже десятый план.
— У писателя другой забег. Он — стайер, который преодолевает длинные дистанции. А художники-акционисты — это спринтеры. У нас они хороши тем, что смеют говорить и создают лицо города необщего выражения, и больше этим никто не занимается. Хотя со всех углов скажут, кто занимается творчеством, что они это как раз и делают. Но получается не так явно просто потому, что, видимо, осмысление художников лучше всего совпадает с тем, что хочет увидеть человек сейчас. Определённого круга молодой человек. Хорошо, что у них получается. Если с искусствоведческой точки зрения рассуждать — где они кого повторили, переделали чью-то другую задумку, — можно глубоко закопаться. Люди, которые считают себя в искусстве чуть поближе к экспертам, могут относиться свысока, что всё это уже было, авангард уже мёртв, арт-брют ваш никому не интересен. Давайте что-то новое, не изображайте старое под видом нового. Но помню, слушала лекцию композитора Курляндского о современном искусстве, и он говорил, что в искусстве есть аватары, а есть авторы. И авторы — это те, кто пробивается к чему-то новому. Но это новое они могут создать только из старого. Во-первых, у нас большая информационная перегруженность, а во-вторых, это такой процесс. То есть авторы — это те, кто создаёт что-то новое, но они сначала должны ощутить какую-то традицию и попытаться её сломать. И авангард — это такая же традиция, как все остальные. В России ей уже больше ста лет. Поэтому художник имеет право ковыряться абсолютно в любой традиции, повторять её, мучить, портить. И в конце концов у части художников что-то получается. А аватары — это те, кто идёт за авторами, последователи. Они создают культуру. Искусство — это что-то живое и неудобное, не соответствующее человеческим ожиданиям. Но оно трансформирует человека, когда он его воспринимает. А культура — это то, что человек из этого взял и решил сохранить, сделав традицией. Но это структура, которая быстро каменеет, как богатство. И за её счёт потом опять появляется искусство. Бесконечное повторение культуры тоже мёртвое. Два эти процесса не существуют по отдельности. То, что ребята-художники пытаются ломать разные традиции, берут разные традиции и экспериментируют, смешивая стили, чужие эксперименты, свои задумки, это правильно и хорошо. Не нужно их осуждать. У нас часто недооценивают то, что происходит в масштабах страны. Они, по-моему, движутся в единственно верном направлении для автора в широком смысле этого слова. И поэтому их видно. Они делают всё правильно.
— У вас знаменитый дедушка — актёр Пётр Вельяминов. Вы с ним общались?
— Мы были знакомы, но общались всего один раз. Когда мне было восемь лет, то на несколько дней приезжали в Петербург с мамой и моей старшей сестрой. И тогда как раз воочию встретились с дедушкой. Жили несколько дней в его квартире. У нас были хорошие отношения с его четвёртой женой. Я тогда была очень мала, какое там общение может быть у ребёнка. Мало, наверное, что можно осознать. Я знала, кто дедушка, чем он занимался, какой вклад внёс в искусство. Но не могу сказать, что я лично его как-то узнала. А для моей старшей сестры Наташи было очень важно ощущать преемственность. Она художник — рисует, пишет. И он ей сказал, чтобы она не торопилась с семьёй, что она может защитить честь рода. Он видел, что внуки занимаются искусством, кого-то он считал достойным и советовал развивать талант в первую очередь, поменьше думать обо всём остальном. У деда была очень бурная жизнь. И он очень многим пожертвовал, много лишений перенёс, далеко не все могут вынести такую судьбу. Поэтому слова эти очень важны для меня. Но не хочется делать из искусства золотого тельца, чтобы ему всё в жертву приносить. У деда тоже так не специально вышло, просто жизнь сложилась таким образом. В семье очень добрая память о дедушке. Он действительно как пример, какой-то ориентир. Большая часть семьи занимается искусством. И всегда есть в какую сторону тянуться.
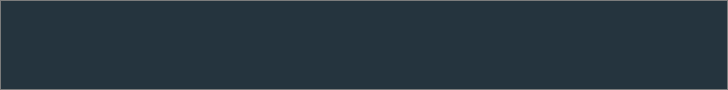


Комментарии закрыты.